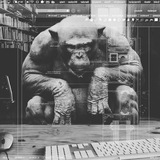На свете миллион архитектурных премий — какие-то очень известны (как Прицкеровская), какие-то существуют как что-то более рутинное и доступное широкому кругу профессионалов: команда платит членский взнос и сама себя номинирует (как на WAF, например).
Недавно я узнала о любопытной премии Дрихауза (Driehaus Architecture Prize), которую часто называют аналогом Прицкера, но в области классической архитектуры. Как и Прицкер, премия Дрихауза — американский проект: она придумана в Университете Нотр-Дам в Индиане. Премия существует с 2003 года (Прицкер — с 1979). Лауреаты Дрихауза получают $200 000, лауреаты Прицкера — $100 000.
При этом приз вручается живому архитектору за современные проекты: автор должен быть сторонником традиционного города (то есть буквально заниматься адвокацией такого нарратива), а проекты — «воплощать принципы традиционной и классической архитектуры и урбанизма в современном обществе», уделять внимание инновациям, создавать «долгосрочный вклад в культуру, окружающую среду и искусство».
При этом на премию Дрихауза, как на большинство архитектурных премий в мире, команда может подать заявку самостоятельно. Номинация на премию Прицкера устроена иначе: любой сертифицированный архитектор может номинировать своего коллегу (но не себя).
Изображения: проекты-победители Driehaus Architecture Prize разных лет.
Продолжение ниже ↓
Недавно я узнала о любопытной премии Дрихауза (Driehaus Architecture Prize), которую часто называют аналогом Прицкера, но в области классической архитектуры. Как и Прицкер, премия Дрихауза — американский проект: она придумана в Университете Нотр-Дам в Индиане. Премия существует с 2003 года (Прицкер — с 1979). Лауреаты Дрихауза получают $200 000, лауреаты Прицкера — $100 000.
При этом приз вручается живому архитектору за современные проекты: автор должен быть сторонником традиционного города (то есть буквально заниматься адвокацией такого нарратива), а проекты — «воплощать принципы традиционной и классической архитектуры и урбанизма в современном обществе», уделять внимание инновациям, создавать «долгосрочный вклад в культуру, окружающую среду и искусство».
При этом на премию Дрихауза, как на большинство архитектурных премий в мире, команда может подать заявку самостоятельно. Номинация на премию Прицкера устроена иначе: любой сертифицированный архитектор может номинировать своего коллегу (но не себя).
Изображения: проекты-победители Driehaus Architecture Prize разных лет.
Продолжение ниже ↓
❤18
Начало выше ↑
Прицкер сначала вручался модернистам, затем постмодернистам, потом взрастил целое поколение Stararchitects, в работах которых не всегда понятно, где что — но так или иначе эта премия была и остаётся разговором о современных подходах (даже когда её получает Чипперфильд).
И вот появляется и довольно успешно существует альтернативная премия, отличающая успехи на совсем другом поприще — намеренно несовременном и обращённом к традиции (прежде всего, формальной). Лауреаты этой премии явно менее знамениты — я знаю из списка лишь некоторых: Крие, Элизабет Платер-Зиберк и Андре Дюани, Стерна, Грейвза — но все они явно пытались найти инновационные воплощения для традиций, осмыслить их в современном мире.
Мне кажется, тут очень любопытно вот что: классической премии приходится догонять премию прогрессивную — вот эта разница в два раза в призовом фонде очень наглядно это иллюстрирует. Значит ли это, что традиционалистам сложно угнаться за ходом времени? А существование такой премии — иллюстрация того, что это всё же возможно? Или это скорее какой-то пузырь анахронизма? Я не знаю.
Прицкер сначала вручался модернистам, затем постмодернистам, потом взрастил целое поколение Stararchitects, в работах которых не всегда понятно, где что — но так или иначе эта премия была и остаётся разговором о современных подходах (даже когда её получает Чипперфильд).
И вот появляется и довольно успешно существует альтернативная премия, отличающая успехи на совсем другом поприще — намеренно несовременном и обращённом к традиции (прежде всего, формальной). Лауреаты этой премии явно менее знамениты — я знаю из списка лишь некоторых: Крие, Элизабет Платер-Зиберк и Андре Дюани, Стерна, Грейвза — но все они явно пытались найти инновационные воплощения для традиций, осмыслить их в современном мире.
Мне кажется, тут очень любопытно вот что: классической премии приходится догонять премию прогрессивную — вот эта разница в два раза в призовом фонде очень наглядно это иллюстрирует. Значит ли это, что традиционалистам сложно угнаться за ходом времени? А существование такой премии — иллюстрация того, что это всё же возможно? Или это скорее какой-то пузырь анахронизма? Я не знаю.
❤16
Даша Зайцева снова делает классную штуку — в этот раз с Софт Культурой. Это точно будет очень интересной разминкой для мозгов — и в результате получится что-нибудь ужасно красивое ↓
Forwarded from Софт Культура
Архитектор, художник и путешественница Даша Зайцева придумала еще один воркшоп для всех, кто хочет отвлечься от рутины и размять воображение.
За 8 занятий можно будет придумать объект с особенной историей — это будет несколько творческих упражнений, чтобы потренироваться черпать вдохновение из неожиданных источников и внятно артикулировать свои идеи — с помощью образов, слов и фотошопа. Если захотите узнать больше о методе, очень советуем лекцию Даши «Здание как персонаж» и дневник ее проекта «Пространствие».
Что нового в этот раз? Ракурс: проектировать домик начнем с генплана и кровли. Отправной точкой станет ландшафт — глядя на объект с высоты птичьего полета, мы попытаемся понять, в каких отношениях он может состоять с окружением.
На карточках — работы Даши. Посмотреть проекты ее студентов и записаться на воркшоп можно вот здесь.
За 8 занятий можно будет придумать объект с особенной историей — это будет несколько творческих упражнений, чтобы потренироваться черпать вдохновение из неожиданных источников и внятно артикулировать свои идеи — с помощью образов, слов и фотошопа. Если захотите узнать больше о методе, очень советуем лекцию Даши «Здание как персонаж» и дневник ее проекта «Пространствие».
Что нового в этот раз? Ракурс: проектировать домик начнем с генплана и кровли. Отправной точкой станет ландшафт — глядя на объект с высоты птичьего полета, мы попытаемся понять, в каких отношениях он может состоять с окружением.
На карточках — работы Даши. Посмотреть проекты ее студентов и записаться на воркшоп можно вот здесь.
❤15🔥2
Любопытный проект Cities.Building.Culture, который исследует постсоветские города, прямо сейчас активно публикует в Instagram’e* проект Residents' Stories («Истории жителей»), которые собраны в двух российских регионах — Ростовской и Свердловской областях.
Команда пишет, что для этого исследования сосредоточилась на двух крайностях: крупные города с населением большее миллиона человек (на английском специально приведено слово Millionniki), в которых живёт 33% от городского населения России, и малые города с населением до 50 000 человек, составляющие 71% российских городов (795 из 1116). Кроме того, в исследование вошли города средних размеров (ещё одно прелестное пояснение на латинице — Bol’shoy gorod) с населением от 100 000 до 250 000 человек. Итого:
· Два крупных растущих города, столицы регионов: Ростов-на-Дону (1 135 968 жителей) и Екатеринбург (1 539 371 житель).
· Два крупных сокращающихся города: Таганрог (242 327 жителей) и Каменск-Уральский (162 177 жителей).
· Два малых сокращающихся города: Зерноград (23 608 жителей) и Сысерть (20 436 жителей).
Исследователи говорили с обитателями дореволюционных исторических кварталов и типовых микрорайонов, застроенных хрущёвками и брежневками — людей спрашивали, устраивают ли их район и дом, состояние зданий и инфраструктуры. А ещё задавали вопросы об участии в обслуживании жилья, взаимодействии с соседями и управляющими компаниями, участии в работе общественных организаций и предложениях по улучшению законодательства.
Это 121 интервью, проведённое с июня 2023 года по март 2024 года. И самое любопытное в них — голоса людей, которые живут иногда в очень разных, а иногда в очень похожих домах. Немного странно читать это по-английски, но вы всё же попробуйте — и посмотрите на всякие магнетические (и одновременно хтонические) городские пейзажи.
На последних фото весна в Екатеринбурге на улице Патриса Лумумбы — это примерно апрель. Я уже давно не застаю её, но смотрю на солнце и лужи, и по привычке ощущаю какую-то большую надежду. Ну а в реальности, пока её ощущаешь, важно в снег не провалиться и грязь обойти (если есть, где).
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.
Команда пишет, что для этого исследования сосредоточилась на двух крайностях: крупные города с населением большее миллиона человек (на английском специально приведено слово Millionniki), в которых живёт 33% от городского населения России, и малые города с населением до 50 000 человек, составляющие 71% российских городов (795 из 1116). Кроме того, в исследование вошли города средних размеров (ещё одно прелестное пояснение на латинице — Bol’shoy gorod) с населением от 100 000 до 250 000 человек. Итого:
· Два крупных растущих города, столицы регионов: Ростов-на-Дону (1 135 968 жителей) и Екатеринбург (1 539 371 житель).
· Два крупных сокращающихся города: Таганрог (242 327 жителей) и Каменск-Уральский (162 177 жителей).
· Два малых сокращающихся города: Зерноград (23 608 жителей) и Сысерть (20 436 жителей).
Исследователи говорили с обитателями дореволюционных исторических кварталов и типовых микрорайонов, застроенных хрущёвками и брежневками — людей спрашивали, устраивают ли их район и дом, состояние зданий и инфраструктуры. А ещё задавали вопросы об участии в обслуживании жилья, взаимодействии с соседями и управляющими компаниями, участии в работе общественных организаций и предложениях по улучшению законодательства.
Это 121 интервью, проведённое с июня 2023 года по март 2024 года. И самое любопытное в них — голоса людей, которые живут иногда в очень разных, а иногда в очень похожих домах. Немного странно читать это по-английски, но вы всё же попробуйте — и посмотрите на всякие магнетические (и одновременно хтонические) городские пейзажи.
На последних фото весна в Екатеринбурге на улице Патриса Лумумбы — это примерно апрель. Я уже давно не застаю её, но смотрю на солнце и лужи, и по привычке ощущаю какую-то большую надежду. Ну а в реальности, пока её ощущаешь, важно в снег не провалиться и грязь обойти (если есть, где).
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.
❤15
Карта или схема — отличный способ для визуализации идеи, причём не обязательно только урбанистической: это отличный язык для формулировки самых разных идей или фиксации впечатлений.
Придумать, как визуализировать данные — очень сложная задача, требующая изобретательности: что показывать, а что нет, как выстроить иерархию информации, как всё это вообще нарисовать / начертить / превратить в коллаж — это ужасно любопытно.
Проект Act of Mapping* собирает примеры самых разных карт и схем — и я очень люблю туда заглядывать, так что делюсь.
* Это аккаунт в Instagram, а Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.
Придумать, как визуализировать данные — очень сложная задача, требующая изобретательности: что показывать, а что нет, как выстроить иерархию информации, как всё это вообще нарисовать / начертить / превратить в коллаж — это ужасно любопытно.
Проект Act of Mapping* собирает примеры самых разных карт и схем — и я очень люблю туда заглядывать, так что делюсь.
* Это аккаунт в Instagram, а Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.
❤21