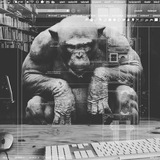Наткнулась на фотографа по имени Francisco Nogueira из Лиссабона — в очередной раз не помню, как.
Ногуэйра получил образование архитектора, поэтому его работы посвящены архитектуре, интерьерам и рукотворному миру вообще — его пока единственная персональная выставка, состоявшаяся в 2018 году, называлась Man Made.
А ещё фотографии просто очень красивые. И мне нравится, что когда в них появляются животные и люди вместе с ними часто появляется ирония.
Ногуэйра получил образование архитектора, поэтому его работы посвящены архитектуре, интерьерам и рукотворному миру вообще — его пока единственная персональная выставка, состоявшаяся в 2018 году, называлась Man Made.
А ещё фотографии просто очень красивые. И мне нравится, что когда в них появляются животные и люди вместе с ними часто появляется ирония.
❤24
Мы с Юлей выпустили новую рецензию — а это бывает не очень часто!
Вдобавок ко всему, что уже написано, я бы сказала, что эта работа кажется мне суховатой по стилю, но очень важной для будущих исследователей, потому что об этих поездках в самом СССР, кажется, вообще почти никто не знал.
А ещё в этой истории много аббревиатур — некоторые из них хорошо знакомы архитекторам, другие не вполне. ВОКС («Всесоюзное общество культурной связи с заграницей»), СIAM (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne), MARS (Moder Architectural Research Group), RIBA (Royal Institute of British Architects).
В тексте вообще постоянно звучит такая абсурдная сегодня «заграница» — но это слово без всякой иронии обозначает западный мир, с которым СССР налаживало культурные связи.
Ну а остальное — ниже ↓
Вдобавок ко всему, что уже написано, я бы сказала, что эта работа кажется мне суховатой по стилю, но очень важной для будущих исследователей, потому что об этих поездках в самом СССР, кажется, вообще почти никто не знал.
А ещё в этой истории много аббревиатур — некоторые из них хорошо знакомы архитекторам, другие не вполне. ВОКС («Всесоюзное общество культурной связи с заграницей»), СIAM (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne), MARS (Moder Architectural Research Group), RIBA (Royal Institute of British Architects).
В тексте вообще постоянно звучит такая абсурдная сегодня «заграница» — но это слово без всякой иронии обозначает западный мир, с которым СССР налаживало культурные связи.
Ну а остальное — ниже ↓
❤5
Forwarded from Fragments
В этом году в издательстве Музея «Гараж» вышло исследование Ксении Малич «Пришёл, увидел — побеждён!» о профессиональном взаимодействии советских и британских архитекторов. С 1930-х по 1960-е, несмотря на сложные отношения Британии и СССР, делегации двух стран ездили друг к другу. Кто бы знал!
Эта компактная книга фиксирует несколько крупных периодов: межвоенный, военный и оттепельный. Её вряд ли назовёшь лёгким нон-фикшеном — скорее это очень внимательная летопись одной очень узкой, специальной темы.
Советская архитектура авангарда, а затем и модернизма должна была доказывать, как свобода от капитализма (и всех его самых страшных грехов) помогает эффективно строить новый справедливый мир. И хотя всё «красное» казалось Британии большой угрозой, советская архитектура вызывала много симпатий, особенно ранняя.
В качестве названия выбрана комплиментарная цитата одного из участников британской делегации в СССР, Френка Йербюри, впечатлённого масштабами советских строек. Но в самой книге можно познакомиться с честными впечатлениями участников, многие из которых были критическими. Одна из наших любимых историй — о социологе Поле Холландере, который придумал термин, характеризующий повышенное внимание к зарубежным гостям — «массаж эго».
Ну а что из всего этого вышло, при чём здесь архитектор Бертольд Любеткин, освоившийся в Лондоне, и где проходит граница между модернизмом и социализмом, читайте в книге — если вы любите исследования, построенные на архивных материалах и живых интервью, вам должно понравиться.
Эта компактная книга фиксирует несколько крупных периодов: межвоенный, военный и оттепельный. Её вряд ли назовёшь лёгким нон-фикшеном — скорее это очень внимательная летопись одной очень узкой, специальной темы.
Советская архитектура авангарда, а затем и модернизма должна была доказывать, как свобода от капитализма (и всех его самых страшных грехов) помогает эффективно строить новый справедливый мир. И хотя всё «красное» казалось Британии большой угрозой, советская архитектура вызывала много симпатий, особенно ранняя.
В качестве названия выбрана комплиментарная цитата одного из участников британской делегации в СССР, Френка Йербюри, впечатлённого масштабами советских строек. Но в самой книге можно познакомиться с честными впечатлениями участников, многие из которых были критическими. Одна из наших любимых историй — о социологе Поле Холландере, который придумал термин, характеризующий повышенное внимание к зарубежным гостям — «массаж эго».
Ну а что из всего этого вышло, при чём здесь архитектор Бертольд Любеткин, освоившийся в Лондоне, и где проходит граница между модернизмом и социализмом, читайте в книге — если вы любите исследования, построенные на архивных материалах и живых интервью, вам должно понравиться.
❤19
Пока я тут гуляю по летнему Питеру (весьма прохладному, конечно же), мои друзья и коллеги из «Координаты» готовят прекрасную выставку о книжном дизайне — 50 книг и журналов в очень красивом пространстве на Вознесенском проспекте.
В программе — издания на русском и английском. Ирма Бом (ах, какой там «Манифест книги»), Вентури и Айзенман, двуязычная книга о Петере Меркли, русско- и англоязычные эксперименты с медиаформатами, типа «Эссенции сенца́» и «Cars & Sneakers», «Коробка с карандашами» с работами Александры Новоженовой — и уйма всего ещё.
Если вы тоже в Питере, заглядывайте в пятницу или позже — выставка будет работать до сентября. А ещё у «Координаты» всегда очень интересная публичная программа — за ней можно следить в Telegram-канале проекта.
Анонс выставки ↓
В программе — издания на русском и английском. Ирма Бом (ах, какой там «Манифест книги»), Вентури и Айзенман, двуязычная книга о Петере Меркли, русско- и англоязычные эксперименты с медиаформатами, типа «Эссенции сенца́» и «Cars & Sneakers», «Коробка с карандашами» с работами Александры Новоженовой — и уйма всего ещё.
Если вы тоже в Питере, заглядывайте в пятницу или позже — выставка будет работать до сентября. А ещё у «Координаты» всегда очень интересная публичная программа — за ней можно следить в Telegram-канале проекта.
Анонс выставки ↓
❤4🔥2👏2
Forwarded from Координата
«Форма и содержание: дизайн книг о дизайне» — открытие новой выставки в Координате
Книга — это не только источник знаний или комбинация из текстов и изображений. Хорошо сделанная книга — самостоятельный проект: высказывание с разными нарративами, интонациями и структурой. На этой выставке мы собрали 50 изданий, в которых фигура графического дизайнера или целой команды так же важна, как фигура автора «содержания» книги — а иногда даже совпадает с ней.
Кураторы выставки: Дарья Курятникова (Координата), Артём Матюшкин (Non-Objective и библиотека 35KG), Наташа Кирикова (Координата), Лиза Тютяева (Non-Objective).
Ждём вас на открытии 14 июня (в пятницу) в Координате с 19:00 до 21:00! В программе: выставка, непринуждённое обсуждение книг, а также летние напитки и десерты от LU.CО.
Вход свободный
Адрес: Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, 44–46
Книга — это не только источник знаний или комбинация из текстов и изображений. Хорошо сделанная книга — самостоятельный проект: высказывание с разными нарративами, интонациями и структурой. На этой выставке мы собрали 50 изданий, в которых фигура графического дизайнера или целой команды так же важна, как фигура автора «содержания» книги — а иногда даже совпадает с ней.
Кураторы выставки: Дарья Курятникова (Координата), Артём Матюшкин (Non-Objective и библиотека 35KG), Наташа Кирикова (Координата), Лиза Тютяева (Non-Objective).
Ждём вас на открытии 14 июня (в пятницу) в Координате с 19:00 до 21:00! В программе: выставка, непринуждённое обсуждение книг, а также летние напитки и десерты от LU.CО.
Вход свободный
Адрес: Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, 44–46
❤4🔥3👏2
Forwarded from В лесах
🗃#влесах_дайджест
Городские исследования
Наследие — это не просто красивые памятники, а повседневность, с которой мы взаимодействуем каждый день, когда переходим улицы, попадаем в магазины или ждем автобуса. В новом дайджесте мы собрали каналы, рассказывающие о том, как городское пространство влияет на человека.
🔵 Автор канала Воздушные избы урбанист Гавриил Малышев предлагает взглянуть на архитектуру глазами антрополога. В фокусе — деревянное зодчество, капром и стихийная застройка.
🔵 Про город рассказывает специалист в сфере социально-экономической географии из Ростова-на-Дону Денис Кузьменко. Вас ждут урбанистические заметки, анонсы тематических мероприятий и, конечно, сам Ростов-на-Дону.
🔵 Телеграм-канал Кто твой город — это проект редакторки и бывшей муниципальной депутатки подмосковного Троицка Лены Верещагиной. На канале публикуются дайджесты с актуальными новостями из мира градостроительства (в том числе законодательные новации), обзоры урбанистических проектов и многое другое.
🔵 Projects & Principles — архитектурный редактор Полина Патимова не фокусируется на чем-то одном, а совмещает в своем канале исследования в области дизайна, архитектуры, социологии, фотографии, педагогики и истории. Увлекательное и полезное чтение для всех, кому интересно сразу все.
🔵 Городские историки из Сибири посвятили свой канал исторической урбанистике (Urban History). Здесь можно найти обзоры статей и книг, анонсы и обсуждения конференций, фотографии и подборки других тематических каналов.
📌 Материалы о наследии регионов читайте @vlesah
Городские исследования
Наследие — это не просто красивые памятники, а повседневность, с которой мы взаимодействуем каждый день, когда переходим улицы, попадаем в магазины или ждем автобуса. В новом дайджесте мы собрали каналы, рассказывающие о том, как городское пространство влияет на человека.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11
Я тут раскопала своё эссе четырёхлетней давности и подумала, что оно по-прежнему мне нравится — пусть будет здесь.
Чтобы как следует познакомиться с городом, в котором ты живёшь, иногда нужно сменить его: не уехать в отпуск, а переселить свою повседневность на пару тысяч километров. Переживая разный опыт в разных городах, начинаешь ощущать какие-то закономерности — и происходит это почти всегда неожиданно.
Каждый город охотно рассказывает о себе через названия улиц. Они закрепляют многолетнюю историю — и затем воспроизводят её: одновременно создают genius loci и откликаются на него.
Если ты живёшь в Екатеринбурге и каждый день стоишь в пробке на мосту к ВИЗу, учишься водить на Керамике, ездишь по выходным к друзьям на ЖБИ и точно знаешь, что на Уралмаше лучше не гулять после одиннадцати, тебе и в голову не приходит, что эти названия — не просто дань заводам, вокруг которых построены районы, и даже не следы досадного соседства с огромными промзонами. В какой-то момент вдруг оказывается, что всё это — часть большого нарратива о городе-заводе, который гордится своей повседневностью.
Но чтобы понять это, надо обнаружить, что на свете есть Фили, Крымский Вал или Сокольники — следы совсем других историй и нарративов. Кроме фонетического потрясения — топонимы XV века явно выигрывают у функциональных имён XX, — изумляет и огромный пласт истории, который стоит за этими именами: через названия ты понимаешь, как менялись границы города, и непроизвольно сравниваешь свои ежедневный расстояния с расстояниями тех, кто жил здесь лет 200 или 300 назад.
Прогуливаясь по Парку Горького, можно представить, что на этом месте были луга для выпаса татарского скота, но вот представить, что за Садовым кольцом не Крымская набережная и не короткий путь на «Стрелку», а Москва под игом, — гораздо сложнее. И именно благодаря этим невероятным допущениям ты наконец понимаешь, о чём говорят урбанисты, описывая город как палимпсест и город как пространство конфликтующих интересов.
И вот, уже зная всё это, ты приезжаешь в город, в котором выросла, и вдруг понимаешь, что условная граница Европы и Азии, которой так гордятся горожане, проходит через улицу Декабристов, переходящую в Сибирский тракт — и это направление ведёт из города. А ещё, что только в Екатеринбурге знают о Якове Свердло́ве — ведь в других городах ударение в фамилии этого человека падает на другой слог.
Продолжение ниже ↓
Чтобы как следует познакомиться с городом, в котором ты живёшь, иногда нужно сменить его: не уехать в отпуск, а переселить свою повседневность на пару тысяч километров. Переживая разный опыт в разных городах, начинаешь ощущать какие-то закономерности — и происходит это почти всегда неожиданно.
Каждый город охотно рассказывает о себе через названия улиц. Они закрепляют многолетнюю историю — и затем воспроизводят её: одновременно создают genius loci и откликаются на него.
Если ты живёшь в Екатеринбурге и каждый день стоишь в пробке на мосту к ВИЗу, учишься водить на Керамике, ездишь по выходным к друзьям на ЖБИ и точно знаешь, что на Уралмаше лучше не гулять после одиннадцати, тебе и в голову не приходит, что эти названия — не просто дань заводам, вокруг которых построены районы, и даже не следы досадного соседства с огромными промзонами. В какой-то момент вдруг оказывается, что всё это — часть большого нарратива о городе-заводе, который гордится своей повседневностью.
Но чтобы понять это, надо обнаружить, что на свете есть Фили, Крымский Вал или Сокольники — следы совсем других историй и нарративов. Кроме фонетического потрясения — топонимы XV века явно выигрывают у функциональных имён XX, — изумляет и огромный пласт истории, который стоит за этими именами: через названия ты понимаешь, как менялись границы города, и непроизвольно сравниваешь свои ежедневный расстояния с расстояниями тех, кто жил здесь лет 200 или 300 назад.
Прогуливаясь по Парку Горького, можно представить, что на этом месте были луга для выпаса татарского скота, но вот представить, что за Садовым кольцом не Крымская набережная и не короткий путь на «Стрелку», а Москва под игом, — гораздо сложнее. И именно благодаря этим невероятным допущениям ты наконец понимаешь, о чём говорят урбанисты, описывая город как палимпсест и город как пространство конфликтующих интересов.
И вот, уже зная всё это, ты приезжаешь в город, в котором выросла, и вдруг понимаешь, что условная граница Европы и Азии, которой так гордятся горожане, проходит через улицу Декабристов, переходящую в Сибирский тракт — и это направление ведёт из города. А ещё, что только в Екатеринбурге знают о Якове Свердло́ве — ведь в других городах ударение в фамилии этого человека падает на другой слог.
Продолжение ниже ↓
❤27🔥3
Начало выше ↑
Ещё одна форма, через которую город рассказывает о себе — его пространственная структура. Этот тезис звучит слишком очевидным до тех пор, пока ты не оказываешься в одном месте, гуляя по другому.
Например, если в холодный сезон приехать на пару дней из Москвы в Петербург, можно вдруг оказаться в Екатеринбурге — не буквально узнать фасады или площади, но неожиданно почувствовать сходство в характере пространства. Это сравнение наверняка показалось бы странным любому петербуржцу — и масштаб, и история, и архитектура этих городов существенно отличаются. И когда ты вдруг впервые ощущаешь между ними явное сходство, кажется, что это просто тоска по дому — и немного наваждения.
Но потом понимаешь, что это просто результат двух контрастов — отношений между рельефом и характером Москвы и Питера. Например, Лотман объясняет разницу между Москвой и Санкт-Петербургом как между городом, в котором перед пешеходом «поворачиваются церкви и особняки, как на театральном круге» — и городом, «который открывается перед марширующим солдатом».
Ощущая этот явный контраст, пытаешься понять, куда в этой системе координат относится хорошо знакомый Екатеринбург — плоский и линейный. В городе-заводе от центральной площади до проходной ведут прямые проспекты со скверами посередине. И хотя от площади до проходной не дойти пешком, а скверы давно съёжились, город появился всего лет на двадцать позже Петербурга и был создан искусственно у небольшой реки, так что какие-то сходства с городом-плацем в нём и правда есть. И эту пространственную структуру только подчеркивают конструктивистские здания и улицы.
· · ·
Знания горожан о своей повседневности состоят совсем не в различении пространственных сеток и архитектурных контрастов — и даже не в раздумьях над этимологией каждого топонима.
Должно быть, эти знания — гораздо более сложный набор паттернов, который живёт и трансформируется внутри каждого из нас. И всё же очень интересно, что мы носим с собой этот архив, даже не осознавая этого, — и что иногда сбор нового архива запускает процесс извлечения для того, который уже собран.
Ещё одна форма, через которую город рассказывает о себе — его пространственная структура. Этот тезис звучит слишком очевидным до тех пор, пока ты не оказываешься в одном месте, гуляя по другому.
Например, если в холодный сезон приехать на пару дней из Москвы в Петербург, можно вдруг оказаться в Екатеринбурге — не буквально узнать фасады или площади, но неожиданно почувствовать сходство в характере пространства. Это сравнение наверняка показалось бы странным любому петербуржцу — и масштаб, и история, и архитектура этих городов существенно отличаются. И когда ты вдруг впервые ощущаешь между ними явное сходство, кажется, что это просто тоска по дому — и немного наваждения.
Но потом понимаешь, что это просто результат двух контрастов — отношений между рельефом и характером Москвы и Питера. Например, Лотман объясняет разницу между Москвой и Санкт-Петербургом как между городом, в котором перед пешеходом «поворачиваются церкви и особняки, как на театральном круге» — и городом, «который открывается перед марширующим солдатом».
Ощущая этот явный контраст, пытаешься понять, куда в этой системе координат относится хорошо знакомый Екатеринбург — плоский и линейный. В городе-заводе от центральной площади до проходной ведут прямые проспекты со скверами посередине. И хотя от площади до проходной не дойти пешком, а скверы давно съёжились, город появился всего лет на двадцать позже Петербурга и был создан искусственно у небольшой реки, так что какие-то сходства с городом-плацем в нём и правда есть. И эту пространственную структуру только подчеркивают конструктивистские здания и улицы.
· · ·
Знания горожан о своей повседневности состоят совсем не в различении пространственных сеток и архитектурных контрастов — и даже не в раздумьях над этимологией каждого топонима.
Должно быть, эти знания — гораздо более сложный набор паттернов, который живёт и трансформируется внутри каждого из нас. И всё же очень интересно, что мы носим с собой этот архив, даже не осознавая этого, — и что иногда сбор нового архива запускает процесс извлечения для того, который уже собран.
❤26